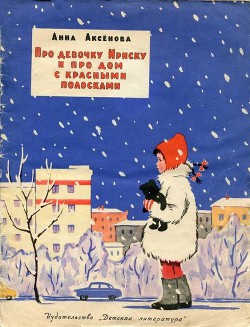рассказала мне, что Коля сидит с мальчиком, у которого отец на фронте, а мать умерла от аппендицита: вовремя не на чем было свезти в район на операцию, а когда повезли — было уже поздно. Мальчик живет с престарелой бабкой, дальней родней. Учительница обещала принять меры, сказала, что будет следить за мальчиком, возьмет над ним, так сказать, шефство.
Потом у нас у всех началась чесотка. Вот она уже не миновала никого. Она мучила нас всех и днем и ночью. Между пальцами рук все было исчесано до крови.
В амбулатории при больнице нам прописали какую-то мазь, но толку от нее не было.
Мама сходила к ветеринару и принесла от него зеленый, похожий на малахит кусок медного купороса.
Купорос развели в воде, и этой невинной на вид бледно-зеленой жидкостью мама смазала наши ободранные в кровь руки.
Боль была дикая, мы прыгали до потолка, благо потолки в избах невысокие. Но зато от чесотки мы вскоре вылечились. Она не раз возвращалась к нам за эти годы, но мы-то уже знали, как с ней бороться, и стоило на руках появиться водянистым чесучим пузырькам, как мама тут же принималась за лечение.
Недавно, вспоминая пережитое, я при своих дочках рассказала о чесотке.
— Это что, вроде аллергии? — спросила одна из них. Новое время — новые болезни.
По утрам у нас в школе бывала линейка. На линейке рассказывалось о новостях с фронта и о важнейших событиях в стране. Радио в селе не было, а газеты приходили в сельсовет и в школу устаревшими дня на два, на три, поэтому свежие сообщения узнавали из района по телефону. Кто-нибудь из учителей шел утром в сельсовет и дежурил там, ожидая сводку Совинформбюро.
Если в село приезжал кто-нибудь, как сказали бы теперь, «с Большой земли», его обязательно приводили в школу к нам на линейку.
Первым, помню, выступал у нас командир — муж молодой ленинградской учительницы, приехавший, кажется, на побывку после ранения.
Очень красивый, статный, с хорошо поставленным голосом, он темпераментно рассказывал нам о фронте, о подвигах бойцов. Он заверял нас и наших учителей, что скоро, очень скоро погонят проклятых «гансов» — так поначалу называли немцев, пока не привилось и не устоялось прочное «фрицы» — с нашей земли.
Выступал у нас в школе и генерал артиллерии. Он был, как показалось мне тогда, очень высокий и говорил, в отличие от молодого командира, спокойно и даже хладнокровно. Вся речь мне не запомнилась. Но поразили и потому запомнились, остались в памяти слова о том, что мы все воюем, вся страна, в том числе и мы, школьники, что и от нас тоже зависит наша общая победа.
А ведь действительно, учеба учебой, но мы еще и работали! Работали летом, работали и осенью, собирая урожай, из-за чего время занятий отодвигалось до октября, а то и до середины ноября. Зимой ходили в лес и там, утопая в рыхлом снегу, пилили вручную толстенные деревья, набивая кровяные мозоли, обрубали упрямые сучья, потом, надрываясь, волоком тащили деревья к дороге, где дряхлая лошаденка, понукаемая, подпираемая со всех сторон, везла их в село.
Сушили дома в печах картофель для фронта, хотя сами его ели не досыта. Вязали шерстяные носки, хотя сами обматывали ноги простым тряпьем. Вязали рукавицы с двумя пальцами, чтобы боец мог стрелять, не снимая их, а сами прятали зимой руки за пазухой.
В школе и в сельсовете — везде, где только было можно, висели, взывали к нам лозунги: «ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
И мы собирали посылки с простенькими гостинцами: набитый махоркой кисет с вышитыми на нем словами: «Бей крепче фашистов, дорогой боец!» да десяток печенюшек из овсяной муки. Печенье, засохнув, становилось твердым как камень, и потому его можно было сосать часами, ощущая во рту вкус хлеба. Мы верили, что наши подарки и письма принесут радость там, на фронте. И они приносили: мы получали ответы со словами благодарности, с пожеланиями отлично учиться и слушаться учителей.
Просиживая допоздна над письмами, мы не оставляли ни одного письма с фронта без ответа. Письма надо было писать — мы понимали это — бодрые, такие, чтобы подымали дух бойцов.
И как тут не вспомнить учительниц военных лет! В самые тяжелые, самые опасные для Родины дни они не раскисали, были приветливы и бодры. Что бы лично с ними ни происходило, они шли в классы делать свое дело — ободрять и учить нас. Разве можно было, глядя на них, сомневаться в нашей победе? И мы не только сами верили, мы знали, что должны вселять эту веру в других.
— Зоя Шорохова, к доске!
Зоя выходит к доске, а мы во все глаза смотрим на Марию Михайловну — как она, потому что утром Валя Буракова принесла весть, что Мария Михайловна вчера получила похоронку на мужа.
Зоя выходит к доске, и Мария Михайловна ровным голосом диктует ей условия задачи. Продиктовав, отходит к окну.
Зоя долго и мучительно стоит у доски. У нас тоже ни у кого ничего не получается. Даже наш отличник Боря Кравцов и тот пожимает плечами, когда мы обращаем к нему наши вопросительные взгляды.
Мария Михайловна все смотрит в окно. Наконец спрашивает:
— Решила?
— Нет, — отвечает Зоя.
— Кто-нибудь решил? — спрашивает учительница класс.
— Нет, — отвечаем мы.
Мария Михайловна долго смотрит на доску, потом опять поворачивается к нам, тени бегут по ее лицу:
— Извините, ребята. Это задача для десятого класса.
Порывшись в своем портфеле, она вытаскивает другой учебник и диктует нам новую задачу.
Урок продолжается. Как обычно. Вот только Мария Михайловна не сразу узнала наш девятый, в котором она к тому же еще и воспитательница.
Мы сидели на уроках в верхних одеждах, а учительницы позволяли себе лишь накинуть теплый платок на плечи. А ведь мерзли даже чернила в наших чернильницах, и, чтобы писать, приходилось отогревать их своим дыханием. Не хватало дров, чтобы отапливать школу в две смены, не хватало наших сил, чтобы заготавливать столько дров на длинную зиму, тем более что дрова нужны были и фермам, и хлебопекарне, и столовой, и больнице, и библиотеке, и престарелым колхозникам, оставшимся без помощи близких.
Вместе с молодыми учительницами мы собирались на репетиции, готовили концерты к праздникам, чтобы хоть немного развлечь наших женщин, работающих и живущих так тяжко!
В этот свой приезд я разговаривала в Круглыжах со старой заведующей библиотекой. «Бывало, сидишь всю ночь у какой-нибудь женщины в избе,
![Долгая дорога домой [1983, худож. Э. П. Соловьева] - Анна Сергеевна Аксёнова](https://cdn.my-library.info/books/379262/379262.jpg)